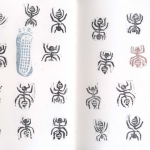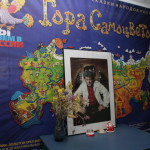Маша Терещенко опубликовала на Кино-Театре.ру очередную колонку. На этот раз текст посвящен экономике мультипликационного фильма.
—
В своих текстах я часто сравниваю нашу мультипликацию с зарубежной — и часто к большому неудовольствию читателей. Зачем равняться на «Бакуганов», «Мадагаскар» и проч., если нужно делать собственную анимацию, идти своим путем, не обращая внимания на окружающий мир?
Я не буду сейчас спорить с данным утверждением. Дело вообще не в эстетике. Сравнивая нас и, положим, Америку, я всегда в первую очередь имею в виду экономические, а не художественные параметры. Я понимаю, многие наши сограждане (как тут случайно выяснилось) считают, будто мультфильмы делаются детьми развлечения ради, но это не совсем верно. На самом деле анимация — дорогое, трудоемкое, долгое, высокотехнологическое производство, и чтобы сделать мультфильм, необходимы серьезные затраты. Например, средне-статистический голливудский полнометражный мультфильм обходится примерно в полтораста миллионов долларов. На нем работает несколько сот человек (примерно от 400 до 1000). Стоимость сериалов обычно не афишируется, поэтому тут можно опираться только на предположения авторитетных источников. Для 22-минутного эпизода приводятся обычно цены от 0,5 до 3 миллионов долларов. Хотя для некоторых сериалов называются и менее высокие цифры: например, «Бэтмен» вроде бы обходится в 30 тыс. долларов за эпизод.

Создание мультфильма связано с покадровой съемкой. Кинолента крутится со скоростью 24 кадра в секунду, а иллюзия движения нарисованного персонажа возникает из-за того, что на каждый такой кадр приходится самостоятельный рисунок, в котором поза героя, а также окружающий его пейзаж слегка изменяются. Не всегда создатели рисуют по картинке на каждый кадр, иногда рисунок растягивается на два кадра или даже три. Тем не менее, на средний 5-минутный мультфильм приходится обычно 3-5 тыс. самостоятельных рисунков. Даже если взять самое простое, линейное, черно-белое изображение, одному человеку придется попотеть. Сколько картинок за час вы можете нарисовать? 10? Значит, 80 за рабочий день, итого: на создание 22-минутного эпизода понадобится порядка 200 рабочих дней. И это только мультипликат. Добавим написание сценария, создание раскадровки, фоны, заливку (то есть придание цвета), прорисовку, контуровку, монтаж, озвучку. Кстати, попалась мне информация в ходе подготовки колонки, что в «Симпсонах» только на гонорары актерам озвучки тратится порядка 1 миллиона долларов за эпизод.
Итак, предположим, что человек делает мультфильм в одиночку на домашнем компьютере. Вероятно, если мы говорим о каком-то более-менее качественном финальном продукте, то ему придется потратить не менее 1 года на производство 22-минутного фильма.



Идем далее. Предположим, что у нас на студии работает 100 человек (я нарочно беру минимум), которые и делают эти самые 10-20 эпизодов в год. Значит, нормальный зарплатный фонд составит 100 тыс. долларов в месяц. Плюс еще 30 тыс. (это в России) уйдет на налоги, сопровождающие эти зарплаты, и сколько-то на аренду, не говоря о покупке и амортизации оборудования. Вот, так и получится, что бюджет нашего эпизода составит несколько сотен тысяч долларов.
Конечно, теоретически можно работникам платить и поменьше. Например, по 100 долларов в месяц. Однако тогда не стоит жаловаться на нехватку квалифицированных кадров.
Пожалуй, в случае с сериалами нужно добавить еще одну статью затрат. Те сериалы, которые выходят в Америке на экраны, проходят прежде серьезный селекционный отбор. Большие студии разрабатывают куда больше проектов, чем доходит в итоге до зрителей. При этом не только разрабатывают на бумаге, но и делают «пилотные эпизоды», которые потом показываются ТВ-каналам, фокус-группам и пр., чтобы проверить зрительский потенциал проекта. Если он мал, пилотный эпизод, грубо говоря, выбрасывается в корзину, и таких вот выброшенных мультфильмов на большой студии может набираться 10-20 за год. По некоторым данным, большие голливудские студии тратят до 25% своих бюджетов на разработку проектов, которые впоследствии никуда не идут.


В случае с полнометражными фильмами схема примерно такая же, только вместо ТВ-показов — кинотеатральные. При хорошем раскладе они приносят создателям больше денег (хотя вовсе не ту сумму, которая указывается в графе сборы, поскольку половина бокс-офиса уходит кинотеатрам, еще что-то прокатчикам, плюс реклама и продвижение), но и затраты на полный метр — больше. Сериал можно сделать экономичным: в конце концов, его смотрят дома, часто между делом, не слишком внимательно и (что тоже немаловажно) бесплатно. Большой же экран куда более требователен, поскольку зритель вышел в кино, заплатил деньги за билет и очень внимательно при выключенном свете смотрит на очень большой экран… тут уже куда сложнее добиться его (зрителя) благосклонности и любви.

В Европе важной особенностью становится государственная поддержка, а также разного рода бонусы, льготы, выгодные кредиты. В разных странах по-разному, но в среднем европейский анимационный фильм может получить финансовую поддержку на а) паневропейском, б) национальном, в) региональном уровне. Важным аспектом становится также копродукция (совместное производство), когда студии из 2-5 стран объединяют свои человеческие и финансовые ресурсы, а впоследствии и рынки, что позволяет быстрее и проще аккумулировать средства на производство, а затем выгоднее продать продукт.

Еще несколько лет назад Россия в эти все схемы не вписывается абсолютно. Куда ни плюнь, ничего не работает. Проблемы начинались на стадии ресурсов. Во-первых, финансовых. Государство, конечно, давало деньги на анимацию, но прямо скажем, невеликие это были деньги. Покойный Александр Татарский любил говорить, что бюджет всей нашей анимации за год равен 1/4 бюджета первого «Шрека» (кстати, очень небольшого по нынешним временам — 40 млн. долларов). В общем, за все государственные анимационные деньги можно было сделать максимум один сезон сериала американского уровня и 1/4 полного метра. При этом частные инвесторы в анимации были не слишком заинтересованы, поскольку анимационный проект разрабатывается годами (положим, Pixar делает свой фильм около 6 лет), так что даже при хорошем раскладе инвестиции в анимацию окупаются только через несколько лет. При этом в России середины нулевых опыта окупаемости анимационных проектов не было вовсе, поэтому только сумасшедший мог бы вложить деньги в эту сферу. Как говорит в одном из своих интервью продюсер «Смешариков» Илья Попов, среди прочего он ставил перед собой задачу развеять миф о том, что детская анимация в России якобы не способна приносить прибыль.
Во-вторых, в России не хватало ресурсов и человеческих тоже. Производители часто говорят, что в России невозможно запустить параллельно 10 полнометражных мультфильмов, поскольку работать на них будет некому (даже если учесть, что наши полные метры делаются вовсе не с сотнями профессионалов, а всего лишь с десятками). При этом восполнить эту нехватку профессионалов казалось крайне сложным. Низкие производственные бюджеты не позволяли платить работникам хорошие зарплаты (у нас и сегодня многие режиссеры на некоммерческих студиях получают 10-15 тыс. рублей в месяц — именно такие цифры предусматривает государственное финансирование анимации). Так что даже немногочисленные наши вузы, обучающие анимационным профессиям, отнюдь не ломились от желающих пойти в эту профессию. Доходило до того, что конкурс составлял меньше одного человека на место — и брали буквально всех желающих, вне зависимости от таланта, способностей и прочих качеств. При этом выпускники вузов не могли быть уверены в том, что их кто-нибудь обеспечит постоянной работой. Живущие от гос-подачки к гос-подачке студии не могли гарантировать ни постоянной работы, ни постоянной зарплаты (даже мизерной). И от этого страдали все, поскольку студия не имела постоянных обученных работников, а анимационные профессионалы вынуждены были бегать от проекта к проекту да еще подрабатывать на рекламе. Понятное дело, кто захочет такой жизни, если куда выгоднее и надежнее встать за прилавок в магазине и иметь постоянный доход без всякого специального образования.

По сей день памятно, как Александр Татарский мучился с «Горой самоцветов». Года два, если не больше, он обивал пороги, чтобы «Гору» показали по телевидению. Не за деньги, этот аспект вообще мало кого волновал в тот момент, поскольку ТВ-каналы платили 300 долларов за час контента (помните, да? бюджет анимационного часа исчисляется минимум в сотнях тысячах долларов, если не в миллионах, так что даже показ на 10 каналах по таким расценкам не приблизил бы проект к окупаемости). DVD-издатели, кино-прокатчики проявляли примерно столько же радушия. Чего ради возиться с непонятными проектами, делать какие-то сборники, когда есть накатанная бизнес-схема: купил полнометражный американский фильм, показал, заработал деньги.
Мы, анимационные журналисты в количестве нескольких штук, приезжали на фестивали, смотрели, потом писали в газетах, что де есть у нас анимация, и вот даже есть самобытная, прекрасная, вся из себя золотая-серебряная, однако посмотреть вы ее не сможете. В сущности, с этого начался, например, «Большой фестиваль мультфильмов», который и ставил своей целью показать хоть кому-то хоть что-то. Однако что значили несколько тысяч московских зрителей? Капля в море. И, поверьте, эта капля организаторам Большого фестиваля мультфильмов дорогого стоила. Первый выпуск проходил вообще на чистом энтузиазме, у фестиваля фактически не было бюджета, и люди проделали огромную работу просто за идею. К счастью, уже со второго года появилась поддержка Фонда Прохорова, скромная, но достаточная хотя бы для того, чтобы покрыть самые необходимые затраты.

Сразу хочу объяснить про советскую анимацию (хотя, знаю, что это объяснение не избавит текст от комментариев «а как же в советское время»). Так вот, советская анимация жила в совершенно другой экономической ситуации. Которая, во-первых, была связана с более-менее фиксированными заработными платами на глобальном рынке труда. Аниматор получал не очень-то много денег, но в целом он знал, что примерно столько же (плюс/минус, но не зарплаты другого порядка) он будет получать и на других профессиональных поприщах. Во-вторых, прокатом мультфильмов занималось само государство. Все права находились в «одних руках», поэтому схема проката была сильно упрощена. В-третьих, в СССР господствовала сильная протекционистская политика (если не сказать жестче) по отношению к национальному контенту. Конечно, показывались не только советские мультфильмы, но конкуренции как таковой не существовало. Ни в умах зрителей, ни в сетках дистрибьютеров. В-пятых, это отсутствие конкуренции строилось в том числе и на технологическом отсутствии доступа советских граждан к свободной информации (как вы помните, не было Интернета и видеоносителей). И, наконец, в-шестых, которое, впрочем, вытекает из предыдущих двух пунктов, зритель был приучен к куда меньшему количеству видео-контента. Советский ребенок обходился 30-40 часами новой анимации в год, и тому был рад. Современный ребенок «потребляет» куда больше, плюс имеет возможность выбирать что-то себе по вкусу.

А раз «домой возврата нет», значит, нашей анимации, чтобы выжить, нужно каким-то образом приспосабливаться к сегодняшней экономической ситуации. Так, как это делает каждый отдельный человек, жертвуя теми или иными своими желаниями ради хлеба насущного и профессиональной реализации. И именно в этом смысле возникают мои реплики о равнении на зарубежные успешные проекты.
Александр Татарский, который очень точно и емко рассуждал обо всех этих процессах, сравнивал нашу анимацию с «ручной мануфактурой». Лучше метафоры и не придумаешь. Я, как многие представители образованного класса, люблю hand-made куда больше, чем фабричные вещи. В «рукотворном» больше индивидуальности, искренности, каких-то мелких особенностей, которые находят отклик в моей душе. И анимация не исключение. В среднем мне куда больше нравятся авторские короткометражки, чем сериальный продукт. Однако Карла Маркса никто не отменял. Мир меняется, а вместе с ним и способы производства. Фабричный труд уже очень давно доказал свои преимущества над ручным. Я знаю, что в каком-нибудь мега-сторе я куплю брюки намного дешевле, чем сошью их на заказ. А поэтому я ношу фабричную одежду, покупаю продукты в больших магазинах и пользуюсь многими другими преимуществами пост-индустриального общества. Мне многое в нем (в постиндустриальном) не нравится. И в частности, да, я не в восторге от состояния культуры — от засилья в ней пошлости и откровенной коммерции. Но я понимаю и то, что это — неизбежная плата за наличие в моей квартире унитаза и горячей воды, за антибиотики и отсутствие риска умереть голодной смертью в неурожайный год, в конце концов, даже за то, что вся эксклюзивная мировая культура мне доступна, и, совершив небольшое усилие, я могу и для себя, и для своего ребенка сформировать оазис высокого искусства.


Во-первых, государство серьезно увеличило объемы финансирования. В несколько раз. Во-вторых, мультфильмы стали интересовать инвесторов, и сегодня известен уже ряд проектов, которые стартовали без государственных денег, например, «Маша и Медведь» и «Паровозик Тишка». В-третьих, серьезным образом изменилась позиция ТВ-каналов, которые сегодня уже вполне заинтересованы в российском анимационном контенте.

Автор: Мария Терещенко